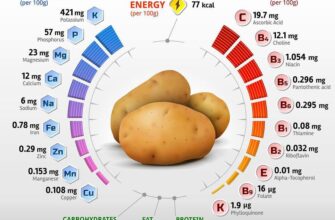Николай Робертович Эрдман
Подсекальников Семен Семенович.
Мария Лукьяновна – его жена.
Серафима Ильинична – его теща.
Александр Петрович Калабушкин – их сосед.
Маргарита Ивановна Пересветова.
Степан Васильевич Пересветов.
Аристарх Доминикович Гранд–Скубик.
Егорушка (Егор Тимофеевич).
Никифор Арсентьевич Пугачев – мясник.
Виктор Викторович – писатель.
Отец Елпидий – священник.
Молодой человек – глухой, Зинка Падеспань, Груня, хор цыган, два официанта, модистка, портниха, два подозрительных типа, два мальчика, трое мужчин, церковные певчие – хор, факельщики, дьякон, две старушки, мужчины, женщины.
Комната в квартире Семена Семеновича. Ночь.
На двуспальной кровати спят супруги Подсекальниковы – Семен Семенович и Мария Лукьяновна.
Семен Семенович. Маша, а Маша! Маша, ты спишь, Маша?
Мария Лукьяновна (кричит). А-а-а-а-а…
Семен Семенович. Что ты, что ты – это я.
Мария Лукьяновна. Что ты, Семен?
Семен Семенович. Маша, я хотел у тебя спросить… Маша… Маша, ты опять спишь? Маша!
Мария Лукьяновна (кричит). А-а-а-а-а…
Семен Семенович. Что ты, что ты – это я.
Мария Лукьяновна. Это ты, Семен?
Семен Семенович. Ну да, я.
Мария Лукьяновна. Что ты, Семен?
Семен Семенович. Маша, я хотел у тебя спросить…
Мария Лукьяновна. Ну… Ну, чего ж ты, Семен… Сеня…
Семен Семенович. Маша, я хотел у тебя спросить… что, у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?
Мария Лукьяновна. Чего?
Семен Семенович. Я говорю: что, у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?
Мария Лукьяновна. Ну знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала, но чтобы ты ночью с измученной женщиной о ливерной колбасе разговаривал – этого я от тебя ожидать не могла. Это такая нечуткость, такая нечуткость. Целые дни я как лошадь какая-нибудь или муравей работаю, так вместо того, чтобы ночью мне дать хоть минуту спокойствия, ты мне даже в кровати такую нервную жизнь устраиваешь! Знаешь, Семен, ты во мне этой ливерной колбасой столько убил, столько убил… Неужели ты, Сеня, не понимаешь: если ты сам не спишь, то ты дай хоть другому выспаться… Сеня, я тебе говорю или нет? Семен, ты заснул, что ли? Сеня!
Семен Семенович. А-а-а-а-а…
Мария Лукьяновна. Что ты, что ты – это я.
Семен Семенович. Это ты, Маша?
Мария Лукьяновна. Ну да, я.
Семен Семенович. Что тебе, Маша?
Мария Лукьяновна. Я говорю, что если ты сам не спишь, то ты дай хоть другому выспаться.
Семен Семенович. Погоди, Маша.
Мария Лукьяновна. Нет уж, ты погоди. Почему же ты в нужный момент не накушался? Кажется, мы тебе с мамочкой все специально, что ты обожаешь, готовим; кажется, мы тебе с мамочкой больше, чем всем, накладываем.
Семен Семенович. А зачем же вы с вашей мамочкой мне больше, чем всем, накладываете? Это вы незадаром накладываете, это вы с психологией мне накладываете, это вы подчеркнуть перед всеми желаете, что вот, мол, Семен Семенович нигде у нас не работает, а мы ему больше, чем всем, накладываем. Это я понял, зачем вы накладываете, это вы в унизительном смысле накладываете, это вы…
Мария Лукьяновна. Погоди, Сеня.
Семен Семенович. Нет уж, ты погоди. А когда я с тобой на супружеском ложе голодаю всю ночь безо всяких свидетелей, тет-а-тет под одним одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгадывать.
Мария Лукьяновна. Да разве я, Сеня, выгадываю? Голубчик ты мой, кушай, пожалуйста. Сейчас я тебе принесу. (Слезает с кровати. Зажигает свечку, идет к двери.) Господи, что же это такое делается? А? Это же очень печально так жить. (Уходит в другую комнату.)
Темно. Семен Семенович молча лежит на двуспальной кровати.
В комнату возвращается Мария Лукьяновна. В одной руке у нее свеча, в другой – тарелка.
На тарелке лежат колбаса и хлеб.
Мария Лукьяновна. Тебе, Сенечка, как колбасу намазывать: на белый или на черный?
Семен Семенович. Цвет для меня никакого значения не имеет, потому что я есть не буду.
Мария Лукьяновна. Как – не будешь?
Семен Семенович. Пусть я лучше скончаюсь на почве ливерной колбасы, а есть я ее все равно не буду.
Мария Лукьяновна. Это еще почему?
Семен Семенович. Потому что я знаю, как ты ее хочешь намазывать. Ты ее со вступительным словом мне хочешь намазывать. Ты сначала всю душу мою на такое дерьмо израсходуешь, а потом уже станешь намазывать.
Мария Лукьяновна. Ну, знаешь, Семен…
Семен Семенович. Знаю. Ложись.
Мария Лукьяновна. Что?
Семен Семенович. Ложись, я тебе говорю.
Мария Лукьяновна. Вот намажу и лягу.
Семен Семенович. Нет, не намажешь.
Мария Лукьяновна. Нет, намажу.
Семен Семенович. Кто из нас муж, наконец: ты или я? Ты это что же, Мария, думаешь: если я человек без жалованья, то меня уже можно на всякий манер регулировать? Ты бы лучше, Мария, подумала, как ужасно на мне эта жизнь отражается. Вот смотри, до чего ты меня довела. (Садится на кровати. Сбрасывает с себя одеяло. Кладет ногу на ногу. Ребром ладони ударяет себя под колено, после чего подбрасывает ногу вверх.) Видела?
Мария Лукьяновна. Что это, Сеня?
Семен Семенович. Нервный симптом.
Мария Лукьяновна. Так, Семен, жить нельзя. Так, Семен, фокусы в цирке показывать можно, но жить так нельзя.
Семен Семенович. Как это так нельзя? Что же мне, подыхать, по-твоему? Подыхать? Да? Ты, Мария, мне прямо скажи: ты чего домогаешься? Ты последнего вздоха моего домогаешься? И доможешься. Только я тебе в тесном семейном кругу говорю, Мария – ты сволочь.
Читать еще: Нацистская свастика значение. В Древнем мире
Семен Семенович. Сволочь ты! Сукина дочь! Черт!
Подсвечник вываливается из рук Марии Лукьяновны, падает на пол и разбивается. В комнате снова совершенно темно. Пауза.
В темноте в комнату входит Серафима Ильинична.
Мария Лукьяновна (кричит). А-а-а-а-а…
Серафима Ильинична. Что ты, что ты – это я.
Мария Лукьяновна. Это ты, мамочка?
Серафима Ильинична. Ну да, я.
Мария Лукьяновна. Что тебе, мамочка?
Серафима Ильинична. Объясни ты мне. Маша, пожалуйста, почему у вас ночью предметы падают? А? Вы всех в доме так перебудите. Маша! А, Маша! Маша, ты плачешь, что ли? Семен Семенович, что такое у вас здесь делается? Семен Семенович! Маша! Я тебя, Маша, спрашиваю. Почему ты, Мария, молчишь? Почему ты молчишь, Мария?
Мария Лукьяновна. Принципиально.
Серафима Ильинична. Господи боже ты мой, это что же за новые новости за такие? А?
Мария Лукьяновна. Пусть Семен говорит, а я говорить не буду.
Серафима Ильинична. Семен Семенович! А, Семен Семенович! Почему вы молчите, Семен Семенович?
Мария Лукьяновна. Это он из нахальности, мамочка.
Серафима Ильинична. Вы зачем же, Семен Семенович, пантомиму такую устраиваете? А? Семен Семенович.
Самоубийца
Москва 1920-х годов. Семён Семёнович Подсекальников, безработный, ночью будит жену Марью Лукьяновну и жалуется ей на то, что он голоден. Марья Лукьяновна, возмущённая тем, что муж не даёт ей спать, хотя она работает целыми днями «как лошадь какая-нибудь или муравей», тем не менее предлагает Семёну Семёновичу ливерной колбасы, оставшейся от обеда, но Семён Семёнович, обиженный словами жены, от колбасы отказывается и выходит из комнаты.
Мария Лукьяновна и её мама Серафима Ильинична, опасаясь, как бы выведенный из равновесия Семён Семёнович не покончил с собой, ищут его по всей квартире и находят дверь в туалет запертой. Постучав к соседу Александру Петровичу Калабушкину, просят его выломать дверь. Однако выясняется, что в туалете был вовсе не Подсекальников, а старушка-соседка.
Семёна Семёновича находят на кухне в тот момент, когда он засовывает что-то себе в рот, а увидев вошедших, прячет в карман. Марья Лукьяновна падает в обморок, а Калабушкин предлагает Подсекальникову отдать ему револьвер, и тут Семён Семёнович с изумлением узнает, что он собирается стреляться. «Да где бы я мог достать револьвер?» — недоумевает Подсекальников и получает ответ: некий Панфилыч меняет револьвер на бритву. Окончательно выведенный из себя Подсекальников выгоняет Калабушкина, вынимает из кармана ливерную колбасу, принятую всеми за револьвер, достаёт из стола отцовскую бритву и пишет предсмертную записку: «В смерти моей прошу никого не винить».
К Подсекальникову является Аристарх Доминикович Гранд-Скубик, видит лежащую на столе предсмертную записку и предлагает ему, если уж он все равно стреляется, оставить другую записку — от имени русской интеллигенции, которая молчит, потому что её заставляют молчать, а мёртвого молчать не заставишь. И тогда выстрел Подсекальникова разбудит всю Россию, его портрет поместят в газетах и устроят ему грандиозные похороны.
Следом за Гранд-Скубиком приходит Клеопатра Максимовна, которая предлагает Подсекальникову застрелиться из-за неё, потому что тогда Олег Леонидович бросит Раису Филипповну. Клеопатра Максимовна увозит Подсекальникова к себе писать новую записку, а в комнате появляются Александр Петрович, мясник Никифор Арсентьевич, писатель Виктор Викторович, священник отец Елпидий, Аристарх Доминикович и Раиса Филипповна. Они упрекают Александра Петровича в том, что он взял у каждого из них деньги, чтобы Подсекальников оставил предсмертную записку определённого содержания.
Калабушкин демонстрирует множество разнообразных записок, которые будут предложены незабвенному покойнику, а уж какую он из них выберет — неизвестно. Получается, что одного покойника на всех мало. Виктор Викторович вспоминает Федю Питунина — «замечательный тип, но с какой-то грустнотцой — надо будет заронить в него червячка». Появившемуся Подсекальникову объявляют, что стреляться он должен завтра в двенадцать часов и ему устроят грандиозные проводы — закатят банкет.
В ресторане летнего сада — банкет: поют цыгане, пьют гости, Аристарх Доминикович произносит речь, прославляющую Подсекальникова, который постоянно спрашивает, который час, — время неуклонно приближается к двенадцати. Подсекальников пишет предсмертную записку, текст которой подготовлен Аристархом Доминиковичем.
Серафима Ильинична читает адресованное ей письмо от зятя, в котором он просит её осторожно предупредить жену о том, что его уже нет в живых. Марья Лукьяновна рыдает, в это время в комнату входят участники банкета, которые начинают её утешать. Пришедшая с ними портниха тут же снимает с неё мерку для пошива траурного платья, а модистка предлагает выбрать к этому платью шляпку. Гости уходят, а бедная Марья Лукьяновна восклицает: «Сеня был — шляпы не было, шляпа стала — Сени нет! Господи! Почему же Ты сразу всего не даёшь?»
В это время двое неизвестных вносят безжизненное тело мертвецки пьяного Подсекальникова, который, придя в себя, воображает, что он на том свете. Через некоторое время с огромными венками является мальчик из бюро похоронных процессий, а затем приносят гроб. Подсекальников пытается застрелиться, но не может — смелости не хватает; услышав приближающиеся голоса, он прыгает в гроб. Входит толпа народу, отец Елпидий совершает отпевание.
На кладбище у свежевырытой могилы звучат надгробные речи. Каждый из присутствующих утверждает, что Подсекальников застрелился за то дело, которое он отстаивает: из-за того, что закрывают церкви (отец Елпидий) или магазины (мясник Никифор Арсентьевич), за идеалы интеллигенции (Гранд-Скубик) или искусства (писатель Виктор Викторович), а каждая из присутствующих дам — Раиса Филипповна и Клеопатра Максимовна — утверждает, что покойник стрелялся из-за неё.
Читать еще: Биография аллы пугачевой, личная жизнь певицы.
Растроганный их речами Подсекальников неожиданно для всех встаёт из гроба и объявляет, что очень хочет жить. Присутствующие недовольны таким решением Подсекальникова, однако он, вынув револьвер, предлагает любому занять его место. Желающих не находится. В эту минуту вбегает Виктор Викторович и сообщает, что Федя Питунин застрелился, оставив записку: «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит».
САМОУБИЙЦА ЭРДМАН
Одна из самых сильных пьес прошлого века в России — «Самоубийца» Николая Эрдмана — до сих пор, на наш взгляд, не нашла адекватного сценического воплощения.Через месяц в Театре Пушкина — премьера спектакля по этой пьесе. «Новая» в нем.
Одна из самых сильных пьес прошлого века в России — «Самоубийца» Николая Эрдмана — до сих пор, на наш взгляд, не нашла адекватного сценического воплощения.
Через месяц в Театре Пушкина — премьера спектакля по этой пьесе. «Новая» в нем участвует не только в качестве болельщика и информационного спонсора, но и — партнера.
Об этой пьесе и ее авторе читайте отрывок из книги нашего обозревателя Станислава Рассадина «Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали».
В конце шестидесятых сидим с Александром Галичем возле пруда, под Рузой, в писательском Доме творчества, и я вижу: издалека, от шоссе, идет, направляясь к нам, незнакомец — остроносый, поджарый, седой, удивительно похожий на артиста Эраста Гарина. (Потом я узнаю: скорее, наоборот, это Гарин, зачарованный им в общей их молодости, невольно стал ему подражать, усвоив-присвоив даже манеру речи, которую мы считаем неповторимо гаринской. Заикание и то перенял.)
В общем, мой друг Саша встает — тоже как зачарованный — и, ни слова мне не сказав, уходит навстречу пришельцу.
— Кто это? — спрашиваю, дождавшись его возвращения.
— Николай Робертович Эрдман, — ответствует Галич с безуспешно скрываемой гордостью. И добавляет показательно скромно: — Зашел меня навестить.
То был единственный раз, когда я видел Эрдмана, и, не сказавши с ним ни единого слова, вспоминаю это как значительный миг моей жизни. А что, если бы вы одним глазком увидали живого Гоголя, вы бы про это забыли?
Преувеличиваю, но не чрезмерно. «Гоголь! Гоголь!» — кричал Станиславский, слушая текст комедии «Самоубийца», написанной в 1928 году.
Николай Эрдман стал — стал! — гением в «Самоубийце».
Вот уникальный случай, когда в пределах одного произведения происходит не просто перерождение первоначального замысла, то есть дело обычное, как правило, запечатленное на уровне черновиков или проявившееся в признаниях самого автора. В «Самоубийце» же по мере развития действия прозревает, растет сам Эрдман. Он постепенно и явно неожиданно для себя совершает восхождение на принципиально иной уровень отношений с действительностью.
Откуда, из каких низин начинается это восхождение?
Семен Семенович Подсекальников, безработный обыватель, в начале комедии — всего лишь истерик, зануда, из-за куска ливерной колбасы выматывающий из жены душу. Он — ничтожество, почти настаивающее на своем ничтожестве. И когда в пьесе впервые возникнет идея как бы самоубийства, она именно как бы; она фарсово почудилась перепуганной супруге.
Да и фарс-то — фи! — грубоват.
Подсекальников тайком отправляется на кухню за вожделенной колбасой, а его ошибочно стерегут у запертой двери коммунальной уборной, опасаясь, что он там застрелится, и тревожно прислушиваясь к звукам — фи, фи и еще раз фи! — совсем иного характера.
Даже когда все повернется куда драматичней, когда затюканный мещанин допустит всамделишную возможность ухода в иной мир, балаган не закончится. Разве что балаганный смех будет переадресован. Пойдет огульное осмеяние тех, кто решил заработать на смерти Подсекальникова, — так называемых «бывших».
То есть — можно встретить и этакое:
« — Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно, стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как общественник. Не забудьте, что вы не один, гражданин Подсекальников. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников. Если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам, как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции».
Интонация издевательская — говорю, разумеется, об интонации, которую насмешливая авторская воля навязала персонажу. Но какая за всем этим ужасающая реальность!
Разве большевики и вправду не зажимали интеллигенции рот? Разве так называемый философский пароход не увез по ленинскому приказу в безвозвратную эмиграцию лучших российских мыслителей? Наконец, разве наиболее страшный из всех жестов протеста, публичное самосожжение, не есть в самом деле то, что «может высказать только мертвый»?
Сам Подсекальников, ничтожнейший из ничтожных, вдруг начинает расти. Сперва лишь в своих собственных глазах: окруженный непривычным вниманием, он стремительно эволюционирует от самоуничижения, свойственного большинству ничтожеств, до самоутверждения, свойственного им же.
Его триумф — телефонный звонок в Кремль: «…я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился». Но мало-помалу от подобного идиотизма он дорастает до монолога, который — соборным хором! — могла бы произнести вся русская литература, озабоченная сочувствием к «маленькому человеку». От Гоголя с Достоевским до Зощенко:
« — Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: «Нам трудно жить». Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас».
Читать еще: Цифровые художники. Недостатки цифровой живописи
«Отказ героя от самоубийства… переосмыслился, — сказала о пьесе «Самоубийца», назвав ее гениальной, Надежда Яковлевна Мандельштам, — жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь… Сознательно ли Эрдман дал такое звучание, или его цель была проще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — антиинтеллигентский или антиобывательский — замысел прорвалась тема человечности. Эта пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство».
Невероятная пьеса ухитрилась проделать такой путь: сперва — водевиль с потным запахом балагана, затем — трагифарс, а в финале — трагедия. Вполне созвучная, скажем, самоубийству Есенина с его прощальным:
…В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Естественно, власть отреагировала так, как и должна была отреагировать. Запретила комедию к постановке (не говоря о печатании) — сперва Мейерхольду, потом и Художественному театру, все более обретавшему статус официального. Зря Станиславский рассчитывал на последнее, так объяснив мотивы своего обращения к «глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу»:
«Зная Ваше всегдашнее внимание к Художественному театру…» — и т.п.
Не помогло. Не спасли дела ни уловка Константина Сергеевича, толковавшего «Самоубийцу» с точки зрения первоначального замысла, «антиинтеллигентского или антиобывательского» («На наш взгляд, Н. Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны»), ни просьба к товарищу Сталину лично просмотреть спектакль «до выпуска в исполнении наших актеров».
Это что ж — как у Николая I c Пушкиным? «Я сам буду твоим цензором»? Ишь, чего захотел старик! Такие творческие союзы возникают исключительно по инициативе сверху. И в результате:
«Многоуважаемый Константин Сергеевич!
Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство» (так! — Ст. Р.). Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна»…
Плебей Джугашвили понимал плебея Подсекальникова, его породу, его природу. И чем более понимал, тем более презирал в нем плебейство, то, которое с неудовольствием ощущал и в себе самом (смотря «Турбиных», ощущал по контрасту). Как Николай I не мог простить Евгению из «Медного всадника» его «ужо!», обращенное к истукану Петра (что, как известно, стало одной из причин запрета, наложенного на поэму), так мольба Семена Семеновича о «праве на шепот» должна была привести в раздражение Сталина…
Получивший возможность шептаться в своем углу (бог его знает, о чем) или насытившийся — независимы. По крайней мере избавлены от постоянного чувства страха или благодарности.
Эрдмана Сталин решил наказать. И наказал — соответственно по-плебейски, выбрав как повод пьяную оплошность артиста Качалова.
Что именно тот прочел? Чем подставил Эрдмана (а заодно и Владимира Масса, и еще одного соавтора, Михаила Вольпина)?
На сей счет мнения разные. Ясно, что никак не могло быть прочитано, скажем, вот это: «Явилось ГПУ к Эзопу — и хвать его за ж… Смысл этой басни ясен: довольно басен!». Тем более что, вероятно, этим печальным ерничеством соавторы отметили уже свершившийся поворот своей судьбы. А все прочие басни — вернее, пародии на басенный жанр — сравнительно безобидны. Да, говоря по правде, и не отличаются блеском.
В общем, так или иначе Качалов был оборван хозяйским окриком, и этого повода (потому что нужен был только повод, причина назрела) хватило, дабы Эрдмана и соавторов арестовать. Его самого вкупе с Массом взяли в 1933 году в Гаграх, прямо на съемках «Веселых ребят», чей сценарий они написали.
Фильм вышел уже без имен сценаристов в титрах, как и «Волга-Волга», к которой Николай Робертович тоже приложил руку. К нему, ссыльному, приехал объясняться режиссер Александров. «И он говорит: «Понимаешь, Коля, наш с тобой фильм становится любимой комедией вождя. И ты сам понимаешь, что будет гораздо лучше для тебя, если там не будет твоей фамилии. Понимаешь?». И я сказал, что понимаю…».
Об этом Эрдман поведал артисту Вениамину Смехову.
Что дальше? Ссылка, вначале — классическая, сибирская, в Енисейск, что дало Эрдману печально-веселое основание подписывать письма к матери: «Твой Мамин-Сибиряк». Война, мобилизация. Отступление, причем Николай Робертович шел с трудом: ноге всерьез угрожала гангрена (из этих дней его друг Вольпин, и в ту пору деливший его судьбу, тоже вынес несколько эрдмановских шуток, не настолько нетленных, чтобы их воспроизводить, но свидетельствующих об удивительном присутствии духа). Затем — нежданная встреча в Саратове с эвакуированными мхатовцами, спасшими Эрдману ногу и, видимо, жизнь. И уж вовсе внезапный вызов в Москву, да к тому же в ансамбль песни и пляски НКВД, под непосредственный патронаж Берия. Есть байка, как Эрдман, увидав себя в зеркале облаченным в шинель чекиста, сострил:
— Мне к-кажется, что за мною опять п-пришли…
Наконец, даже Сталинская премия за фильм «Смелые люди», патриотический вестерн, сделанный по сталинскому заказу. И — поденщина, поденщина, поденщина. Бесчисленные мультфильмы, либретто правительственных концертов и оперетт, «Цирк на льду» и, незадолго до смерти в 1970 году, как отдушина, дружба с Любимовым, с молодой «Таганкой».
Собственно, для варьете, мюзик-холла Эрдман отнюдь не гнушался писать и раньше, но одно дело — до, другое — после «Самоубийцы»
Источники:
http://www.litmir.me/br/?b=31329&p=1
http://briefly.ru/erdman/samoubijca/
http://novayagazeta.ru/articles/2005/11/14/23830-samoubiytsa-erdman